Формы игрового досуга в среде служилого населения
Томского острога
Томск, как и многие другие города Сибири, долгое время
оставался городом служилого населения. «Кто служит, тот тужит», и жизнь
городовых казаков и стрельцов была не из легких. Не раз приходилось выдерживать
«осадное сидение», отражая набеги «незамиренных инородцев», переживать жестокие
голодные зимы, заводить пашенные заимки и бить пушного зверя, отправляться в
дальнюю дорогу по царевым и воеводским поручениям. Но было в жизни этих первых
томичей и место для досуга, в котором далеко не последнее место занимали игры —
кости, шахматы, шашки и карты.
Игра в кости — одна из древнейших игр, освоенная славянами
еще во времена существования индоевропейской общности. Одна из миниатюр
Кёнигсбергской летописи иллюстрировала выбор князем Владимиром жертвы языческим
богам путем метания игральных костей [1].
В Московском государстве XVI–XVII вв. был широко распространен один из вариантов
этой игры — зернь, с цифровой маркировкой или попеременно черными и белыми
сторонами [2].
На территории воеводской усадьбы Томска середины XVII —
середины XVIII вв., находившейся в историческом центре города, томскими
археологами под руководством М.П. Черной, была сделана редкая находка — костяной
кубик, с точками-«зернами» от 1 до 6. По расположению точек на его гранях и
внешнему виду он мало чем отличается от своих современных собратьев, но, взяв
его в руки, испытываешь уважение и даже некоторое опасение к этому давнему
атрибуту Фортуны. Поэтому поневоле не рискнешь метнуть его как в старые времена,
чтобы не потревожить спокойствия азартных игроков прошлого. Не меньшего почтения
заслуживает и фигура шахматного короля, выполненная из кости
шахматником-профессионалом. Она сочетает в себе строгость и стройность
авторского замысла с тщательной и сложной резьбой. Мастер увенчал фигуру
миниатюрной стилизованной короной, а «талию» опоясал свободно вращающимся
кольцом. Возможно, что этот король возглавлял шахматное воинство самого томского
воеводы. О том, как выглядел остальной шахматный комплект, могут сказать фигуры
слона и рядовой пешки. Судя по остальным археологическим находкам, была известна
томичам и игра в [196] шашки, имевшая
название тавлеи или лодыги, а, возможно, и игра в домино [3].
|
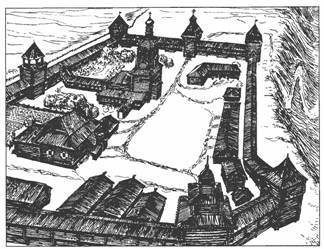 |
|
Томский острог XVII в.
Реконструкция И.Д. Резуна, рисунок А.А. Заплавного из кн.:
Резун Д.Я., Васильевский В.С.
Летопись сибирских городов. Новосибирск, 1989. С. 259
|
Игра в карты, несмотря на свою молодость в сравнении с
костями и шахматами, увы, не оставила своего вещного воплощения для XVII в. Но
нам известно, что торговые люди из России (а именно так называли сибиряки свою «метрополию»)
в числе прочих товаров доставляли в Томский острог и карты. В сохранившихся
таможенных книгах 1624–1627 гг. имеются две записи о «явке» 12 и 90 колод
игральных карт (по счету того времени «дюжины» и «полосьмы дюжины»), а также
других принадлежностей для игр — «двои тавлеи говяжих» и «10 кости игровые»
[4].
Первое письменное свидетельство о картах в Московском царстве
зафиксировано в 1586 г., в словаре участников первой французской экспедиции по
Северному морскому пути [5]. Возможно, что игральные карты, как и
другие предметы западного обихода, были привезены в Московское государство
англичанами, достигшими устья Северной Двины в 1553 г., или голландцами,
появившимися там в 1577 г.
Прошло немногим более 20 лет с момента основания города, и мы
видим эту западную диковинку и в Томске. Служилые люди, двигаясь из-за Урала и
других городов Сибири, «встречь солнцу» несли с [197]
собой и новые формы своего досуга. В XVII в. наиболее крупные партии
игральных карт, доставляемые иностранными купцами в Архангельск, предназначались
для отправки в сибирские города. Надо сказать, что карты по популярности
значительно уступали зерни, которая могла изготовляться «на месте» и была более
привычной и незамысловатой игрой. Шахматы и шашечные игры были, что называется,
официальными развлечениями русского двора, что же касается карт, то в описи
одной из кладовых Коломенского дворца (1677 г.) встречаем такую запись: «две
дюжины и семь игор карт гнилых» [6]. Думается, что такая судьба их постигла не только
вследствие сырости, но и неупотребления.
О степени распространения игровых форм досуга могут
рассказать царские и воеводские наказы, в которых не раз повторялись
распоряжения «смотреть и беречь накрепко», чтобы «зернью и карты и всякого
проигрышною игрою служилые и торговые и промышленные люди не играли, и служилые
бы люди государева денежного и хлебного жалования и пищалей и с себя платья не
проигрывали» [7]. Также оговаривалось «для ясачного сбора» подбирать
служилых людей «самых добрых постоянных и верных, и чтоб они в ясачныя волости
вина, табака и карт и никаких своих товаров не имали... и ясачным людям никакой
обиды и тягости и разоренья не чинили и их своими приметами не задолжали»
[8]. Как видим, власть больше всего опасалась не столько игры, сколько «рушения»
по ее причине государственной службы и затруднений в сборе пушного налога с
коренного сибирского населения.
Против азартных игр проводились и общегосударственные законы.
Указом 1648 г., инициатором которого было духовенство, запрещалось «всякое
бесовское действо, глумление и скоморошество со всякими бесовскими играми», в
том числе запрещались и такие «гражданские» игры как зернь, карты, шахматы и
лодыги [9].
Соборное Уложение 1649 г. предписывало поступать с игроками
как с «татями», т.е. применять к ним членовредительные наказания, но только если
были доказаны более серьезные преступления - воровство, грабеж или убийство [10].
Для «чистых» зернщиков и картежников, а также для тех, кто
такую игру «держит» и распространяет, в наказных памятях рекомендовались такие
виды наказаний, как «бить кнутом нещадно», «бить батоги», «бить кнутом по торгам
нещадно, да на них же править заповеди». Быструю и скорую расправу ожидали и
сами карты, которые, в отличие от вина и «потаенных товаров», не «имали» в казну,
а сжигали на торговой площади.
Конечно, частые запрещения свидетельствуют об их слабом
исполнении, и, надо полагать, приведенные предписания часто отражали
[198] не действительные, а желаемые составителями порядки.
В то же время русское государство, одной рукой грозя игрокам
различными карами, другой — поощряло пристрастия своих подданных. Так, в
расходной книге Туринского острога (1622–1623 гг.), в разряд «неокладных
расходов» включена и покупка на казенные деньги карт «для государевых дел», а в
приходной книге существовала даже особая статья доходов «с зернового суда» и «от
костей и от карт» [11]. Тарские воеводы в 1624 г. писали в
Сибирский приказ прошение о запрещении закладных игр, из-за которых «чинится
татьба и воровство великое». На что в этом же году получили из приказа ответ: «и
вы бы на Таре зерновыя и всякие игры из окладу не выкладывали, для того что та
игра отдана и откупныя деньги емлют с нея в нашу казну давно... А которые люди
на Таре зернью и всякою игрою учнуть играти, и вы б над теми людьми велели
дозирать, чтобы они играли смирно; и от всякого воровства и от душегубства
служилых людей унимали» [12].
Игра, как правило, проистекала в государевом кабаке, в
котором проводили немалое время служилые, промышленные и прочих чинов люди.
«Держать» здесь карты и зернь было чрезвычайно выгодным делом — благодаря
играющим значительно повышалось потребление спиртных напитков, игра привлекала
торговых людей, и, следовательно, росли кабацкие и таможенные сборы. Поэтому
государственные должностные лица — верные (т.е. приведенные к присяге) кабацкие
и таможенные головы и целовальники заводили «на кабаках зерни великие», доход с
которых шел не только в местную государеву казну, но и им самим.
Вообще для Московского государства были характерны подобные
противоречия между законодательными мерами и их реальным воплощением. В начале
XVII в. московский патриарх осудил «богомерзкое» курение табака, царские указы и
Соборное Уложение также запрещали курить табак и торговать им, однако, само же
правительство закупало этот товар большими партиями у иностранных купцов и
перепродавало его в отдельные районы страны.
В 1639, 1648 и 1667 г. государство попыталось запретить
откупа азартных игр. Так, в 1668 г. березовскому воеводе предписывалось
проделать следующую операцию: «...как к тебе ся наша великого государя грамота
придет, а на Березове будет, по тобольским отпискам... зернь и карты отданы на
откуп: и ты бы зернь и карты на Березове велел отставить, и откуп с зерни и с
карт из окладу выложить,.. а впредь заказ учинить крепкой, как у тебя о том в
наказе написано» [13]. Однако во многих городах откупа продолжали существовать
и в XVIII в., поскольку государство опасалось, что «с отменой откупа азартные
игры не прекратятся, казна лишится дохода, а воеводы сами станут пользоваться
дурными страстями населения в своих выгодах» [14]. Средневековая
[199] откупная система нашла продолжение
в каторжных тюрьмах Сибири XIX в., где еще во время движения арестантской партии
происходили торги, на которых определялись «содержатели водки, карт, съестных
припасов, одежды»
[15].
Русский историк XIX в. Н.И. Костомаров вынес жесткий приговор
как самим азартным играм, так и играющим в них, написав от лица XVII в., что
зернь и карты считались «самым предосудительным препровождением времени» и были
«любимым занятием лентяев, гуляк, негодяев и развратных людей». Но не судите и
не судимы будете. Средневековая бытовая культура и в Сибири, и в России, и в
странах Западной Европы никогда не была «стерильной». Страсть к игре — это
общечеловеческая универсалия, которая в конкретно-исторических условиях имеет
различные мотивы и выражение. В нашем случае многое могут объяснить
ненормированные условия службы в Сибири: долгая оторванность от семей и
хозяйств, однообразие острожного «сидения» и в то же время частые и длительные
служебные командировки, существование «безмужних жен», близость к пушной
«валюте». Постараемся взглянуть на нравы наших предков в исторической
перспективе, и мы найдем не так много отличий. Томская пресса второй половины
XIX в. окрестила городское общественное собрание (аналог нашего современного
клуба) «выпивочно-закусочным-игральным заведением, где игра возведена была в
культ» и где «библиотечные столы вытесняются зелеными столами для карточных игр» [16].
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Корзухина Г.Ф. Из истории игр на Руси // Советская
археология. 1963. N 4. С. 95.
2. Латышева Г.П., Рабинович М.Г. Москва в далеком прошлом. М.,
1966. С. 234–236; Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского
народа в XVI–XVII столетиях. СПб., 1860. С. 144.
3. Черная М.П.
Азартные игры в быту томичей // Пространство культуры в
археолого-этнографическом измерении: Западная Сибирь и сопредельные территории.
Томск, 2001. С. 88–92.
4. Таможенная книга
Томска 1624/27 гг. // Таможенные книги сибирских городов XVII в.: Туринск,
Кузнецк и Томск. Новосибирск, 1999. Вып. 2. С. 92–94.
5. Парижский
словарь московитов 1586 г. Рига, 1948. С. 107–108.
6. Забелин И.Е.
Домашний быт русских царей в XVI–XVII столетии. М., 1895. Ч. 1. С. 455–456, 476.
7. См., напр.: Наказная память Якутского воеводы Ивана
Акинфова сыну боярскому Андрею Булыгину, о наблюдении за корчемною продажею и
варением пива, браги и хмельных квасов, и о проч. 1652 г. // Дополнения к актам
историческим. СПб., 1848. Т. 3. N 104.
8. Наказные статьи Нерчинским воеводам. 1696 г. // Полное
собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 3. N 1. С.
542.
[200] 9. См.: Память Верхотурского воеводы Рафа Всеволжского
прикащику Ирбитской слободы Григорью Барыбину, о строгом наблюдении, чтоб
служилые люди и крестьяне в воскресные и праздничные дни ходили в церковь,
удалялись чародейства и пьянства и не заводили непристойных игрищ. 1649 г. //
Акты исторические. СПб., 1842. Т. 4. N 35.
10. Соборное
Уложение 1649 г. Гл. 21. Ст. 15 // Российское законодательство X–XX вв. М.,
1985. Т. 3. С. 232.
11. Книга расходная (1622–1623) Туринского острога // Акты
относящиеся до юридического быта России. СПб., 1864. Т. 2. N 143.
12. Цит. по: Веселовский С.Б. Азартные игры как источник
дохода Московского государства в XVII веке // Сборник статей, посвященных В.О.
Ключевскому. М., 1909. С. 309.
13. Грамота Березовскому воеводе кн. Петру Гагарину, об
уничтожении откупа на зернь и карты. 1667 г. // ПСЗ. СПб., 1830. Т. 1. N 96.
14. Веселовский
С. Б. Указ. соч. С. 311.
15. Максимов С.
В. Сибирь и каторга. СПб., 1871. Ч. 1. С. 57.
16. Бойко В.П. Томское купечество в конце XVIII–XIX вв.: Из
истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996. С. 228–229. Города Сибири XVII-начала XX в.
Выпуск 2: История повседневности. Барнаул: Изд-во АГУ, 2004. С. 195-200.
Источник: http://new.hist.asu.ru/biblio/gorsib2_1/195-200.html
| 
